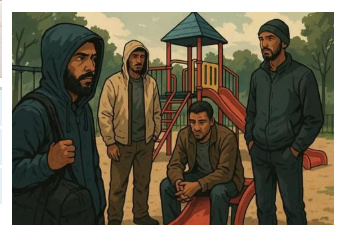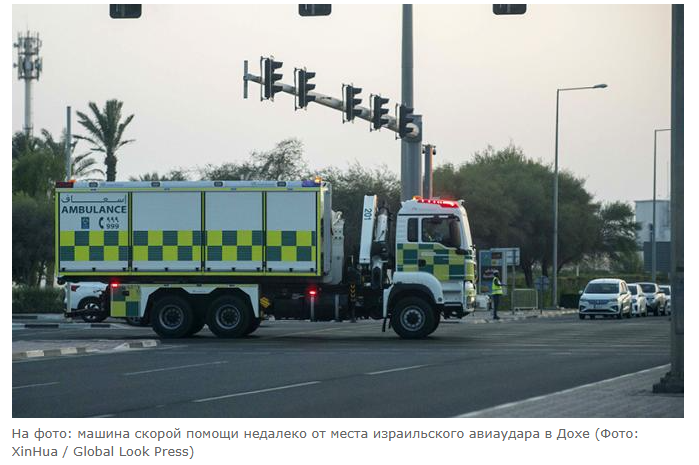Аляска, которую мы потеряли — часть II
Окончание. Начало читайте в предыдущем номере.
Финал Русской Америки оказался не по вине народных масс бездарным: в марте 1867 года более 10 процентов территории России было продано Соединенным Штатам. Но история нашего Нового Света богата героическими событиями. А двумя наиболее великими ее фигурами стали первый главный правитель Александр Андреевич Баранов (1746–1819) и основатель Русской Америки Григорий Иванович Шелихов (1747–1795).
Этот деловой и идейный тандем мог обеспечить русскому делу на Тихом океане не просто великое, но и устойчивое будущее. Однако уже в начальный период освоения региона нашими предками англосаксы – как англичане, так и янки – не только отслеживали ситуацию, но и действовали. В частности, преждевременная смерть Шелихова настолько ослабила русские перспективы, что сегодня к ней не мешает присмотреться внимательнее.
От Москвы до самых до Гавайев
“ Странно скончались отец и сын Лаксманы, с именами которых связаны тихоокеанские планы Екатерины, Николай Резанов, готовый стать достойным преемником Шелихова ”18 апреля 1795 года в столицу был передан рапорт «Правительствующему сенату генерал-майора, отправляющего должность правителя иркутскаго наместничества и кавалера» Ивана Пиля о нуждах судостроения в Охотске и Северной Америке. В обстоятельном документе, написанном иркутским губернатором за три месяца до смерти Шелихова, была обрисована впечатляющая программа по развитию корабельного дела на Тихом океане при государственной поддержке прежде всего кадрами. Пиль сообщал: «А для сего тот компанион Шелихов, естли вышнему правительству угодно будет на первой случай наградить командированием для компании хотя четырех опытных и добраго поведения штурманское искусство совершенно знающих, то содержание сим надежным людям берется он, Шелихов, производить от компании. Кроме сих, имеет компания самую ж надобность в судостроительном мастере искусном, боцмане и якорном мастере, все ж они необходимо нужны компании более в Америке, где и завестися должна компанейская верфь».
Шелихов, как видим, окончательно превращался в ведущую, системную фигуру, опирающуюся на устойчивое финансовое положение, огромный накопленный опыт, знание местных условий и людей, а также на возрастающую государственную поддержку. С энергией Григория Ивановича был более чем возможен быстрый качественный рывок в обеспечении интересов России не только в северной части Тихого океана и в Северо-Западной Америке, но и существенно южнее – даже до Сэндвичевых (Гавайских) островов.
Неразгаданная смерть
В 1796 году после смерти матери русский престол занял Павел I – искренний и деятельный сторонник Русской Америки, санкционировавший создание Российско-американской компании (РАК). Увы, до нового царствования, когда Шелихов скорее всего был бы понят в полной мере, он не дожил. Умер 20 июля (ст. ст.) 1795 года всего-то сорока восьми лет от роду в Иркутске скоропостижно. Погребли его подле алтаря соборной церкви в Знаменском девичьем монастыре.
 Фото: gorod-shelehov.ru
Фото: gorod-shelehov.ruК этой кончине стоит присмотреться внимательнее, в частности к сведениям декабриста барона Штейнгеля.
После восстания 1825 года интеллектуальный градус в Сибири быстро и зримо возрос за счет того, что здесь в немалом числе появились блестящие столичные умы, сосланные императором Николаем I. Был среди них и Штейнгель. Он знал Восточную Сибирь до ссылки, причем хорошо, поскольку служил там несколько лет. Был знаком и с историей Шелихова, а также с близкими ему людьми. От многолетнего сотрудника Григория Ивановича, занимавшегося его «американскими» делами в качестве правителя русских поселений Северо-восточной компании (позднее – одного из директоров РАК), Евстратия Деларова Штейнгель услыхал следующий рассказ. В 80-х годах XVIII века Шелихов в очередной раз отправился в свои американские «вотчины», оставив жену дома. Она тут же закрутила роман с неким чиновником, собралась идти за него замуж и распустила слух, что муж, «вышед из Америки в Камчатку, умер». Брат Шелихова – Василий матримониальным планам невестки и распространению слуха не препятствовал, а даже способствовал. «Но вдруг, – повествовал со слов Деларова Штейнгель, – вовсе некстати получено было письмо, что Шелихов жив и вслед за оным едет из Камчатки в Охотск. В сем-то критическом положении жена решилась по приезде его отравить».
Шелихов ситуацию упредил и хотел расправиться с виновными круто. Отговорил его от расправы другой близкий его сотрудник – приказчик Баранов. Тот самый Александр Баранов, который стал впоследствии второй после Шелихова легендой Русской Америки. Он якобы и убедил хозяина «пощадить свое имя». Штейнгель заключал: «Может быть, сие происшествие, которое не могло укрыться от иркутской публики, было причиною, что внезапная смерть Шелихова, последовавшая в 1795 году, была многими приписываема искусству жены его, которая потом, ознаменовав себя распутством, кончила жизнь несчастным образом, будучи доведена до крайности одним свои обожателем».
Реконструкция прошлого всегда непроста. Иногда она опирается на прямые достоверные факты, а бывает, основывается лишь на анализе косвенных данных. В чьих интересах была смерть Шелихова, кому выгодна? Жене? Иркутские кумушки иной причины видеть не могли, тем более что прецедент, так сказать, имел место. Но с тех пор прошло несколько лет и многое отгорело. С другой стороны, однажды уличенная в неверности жена попадала бы под подозрение в случае внезапной смерти мужа первой. Однако ни Баранов, ни Деларов ей кончину своего шефа в вину не поставили. Выигрывал ли от смерти Шелихова брат Василий? Тоже вроде бы нет – он прямым наследником не был.
Кому же деятельная фигура Шелихова оказалась поперек горла? Ответ можно дать сразу и вполне однозначно: живой он был все более опасен для тех могущественных внешних сил, которые абсолютно не устраивал вариант развития геополитической и экономической ситуации на Тихом океане в пользу России.
Были основания предполагать, что после смерти Екатерины, возможной уже в ближайшие годы, и с воцарением Павла Шелиховские планы и замыслы найдут у нового монарха самую широкую поддержку. Он проблемой интересовался с детства – имеются тому сведения. А русский Тихий океан вплоть до тропиков и Русская Америка были «символом веры» Шелихова.
Устранить его тем или иным образом было для англосаксов делом не только желательным, но просто-таки насущным. Возможности у английских спецслужб уже тогда были впечатляющими. Английские агенты внедрялись в Россию и даже в окружение царей не со времен Екатерины II, а намного более ранних – едва ли не с Ивана III Великого. В марте 1801 года, через шесть лет после смерти Шелихова рука Лондона дотянется до самого самодержца Павла, вознамерившегося вместе с Наполеоном лишить Англию ее колониальной жемчужины – Индии.
Зная и понимая это, смерть Шелихова можно рассматривать не как трагическую случайность, а как подготовленную закономерную акцию англосаксонской агентуры в Восточной Сибири и конкретно в Иркутске.
Шпион, вернувшийся с холода
Последнее плавание Джеймса Кука – то, в котором его убили гавайские аборигены, было миссией стратегической разведки для прояснения целей русской экспансии на Тихом океане («Украденный приоритет»). Но если эта оценка верна, то в такое плавание и людей подбирают не с бору по сосенке, а чтобы и язык за зубами держать умели, и соображение имели. На кораблях Кука в его северном плавании находились как минимум три человека, чья судьба в той или иной мере оказалась впоследствии связана с Россией. Это англичане Биллингс и Тревенен (первый затем участвовал в русской экспедиции как раз на Тихом океане), а также капрал морской пехоты американец Джон Ледьярд (1751–1789), позднее орудовавший в России.
Советский комментатор дневников Кука Я. М. Свет пишет о нем: «Человек с довольно неясным прошлым и весьма большой амбицией после возвращения в Англию и с ведома Т. Джефферсона отправился в Сибирь, чтобы затем через Камчатку и Аляску открыть торговый путь в США. Однако эта миссия не увенчалась успехом – Екатерина II велела выслать Ледьярда из пределов России».
Заурядный капрал вряд ли имел бы возможность общаться с одним из государственных лидеров США даже при простоте тогдашних американских нравов. Да и из России иностранных гостей просто так не высылали. Но Ледьярд и не был заурядным капралом, морская пехота в королевском флоте вроде спецслужбы. Показательно, что когда корабли Кука подошли к русскому аляскинскому острову Уналашка, первым на берег капитан отправил как раз Ледьярда, где тот в первый, но не в последний раз встретился с шелиховским штурманом Измайловым. Причем Ледьярд уже тогда знал русский язык, и это было явно не случайно, как и само участие американца в английском походе.
«Капрал» Ледьярд отправился в 1787 году в Россию во вполне зрелом возрасте – в тридцать шесть лет. И его сибирская поездка выглядит при ближайшем рассмотрении чистой воды разведывательной акцией. Заручившись в 1786-м содействием Джефферсона, бывшего тогда посланником США в Париже, Ледьярд пытался построить маршрут так, чтобы из Петербурга проехать через Сибирь и Камчатку, а оттуда – в русские американские поселения.
Хлопотать за капрала перед Екатериной взялся по просьбе Джефферсона и маркиза Лафайета барон Ф. М. Гримм, с которым императрица состояла в переписке. Екатерина ответила: «Ледиард поступит правильно, если выберет иной путь, а не через Камчатку». Тем не менее американец, пройдя, как он говорил, пешком Скандинавию и Финляндию, в марте 1787 года появился в Петербурге без разрешения. А в мае в отсутствие Екатерины через какого-то офицера из окружения цесаревича Павла получил бумаги сомнительного характера – паспорт от губернского столичного правления на имя «американского дворянина Ледиарда» (только до Москвы) и подорожную от почтамта в Сибирь. Возможно, дело не обошлось без взяток, но весьма вероятно, что Ледьярд воспользовался и услугами англосаксонской агентуры в русских столицах.
18 августа 1787 года он был уже в Иркутске и 20 августа сообщал секретарю миссии США в Лондоне полковнику У. Смиту, что вращается в «кругу столь же веселом, богатом, вежливом и ученом, как и в Петербурге». При этом Ледьярд не удовлетворяется веселым светским общением, а ищет встречи с Шелиховым.
Они увиделись, и сразу после беседы Григорий Иванович представил иркутскому и колыванскому генерал-губернатору Ивану Якоби «Замечания из разговоров бывшего иркутского вояжира аглицкой нации Левдара».
Шелихов сообщал: «С жарким любопытством спрашивал он меня, где и в каких местах я был, далеко ли с российской стороны промыслы и торги по Северо-Восточному океану и по матерой американской земле распространены, в каких местах и под которыми градусами северной широты есть наши заведения и поставлены знаки государственные».
Столкнувшись с явно разведывательными вопросами, Григорий Иванович был внешне вежлив, но осторожен. Ответил, что русские уже давно ведут промыслы в северной части Тихого океана, «и знаки государственные тогда же поставлены были», и что «в сих местах других держав людям без позволения российской монаршей власти быть никак не надлежит», что чукчи «уж давно нашему российскому скипетру принадлежат», а на Курильских островах «всегда живут российские люди во многом количестве». Шелихов и сам начал расспрашивать Ледьярда о плавании Кука, но собеседник «темными отводил доводами».
Шелихов был внешне откровенен – показал карты, но масштабы русского проникновения в Америку и на Курилы на всякий случай преувеличил. А чтобы выглядеть перед англосаксом простаком, пригласил его на следующее лето с собой в плавание. Сам же известил обо всем Якоби.
Жизнь за Русскую Америку
Генерал-поручик Якоби был личностью сильной и убежденной в необходимости укрепления России в северо-западной зоне Тихого океана. С Шелиховым они друг друга понимали очень хорошо. И в ноябре 1787 года Якоби отправил ближайшему сотруднику Екатерины графу Безбородко обширное донесение о Ледьярде, где прямо предполагал, что тот «послан сюда для разведывания о положении здешних мест со стороны аглинской державы».
Якоби сам вскрывать почту «американского дворянина» не решился, но рекомендовал сделать это Безбородко. Ледьярд тем временем беспрепятственно перемещался по Сибири. Причем он просто обязан был заниматься тем, что сейчас называется вербовкой, – созданием резидентур и насаждением агентуры. Похоже, письма его перлюстрированы не были, но приказ об аресте и высылке Ледьярда Екатерина отдала. Он был получен в Иркутске в январе 1788 года.
А далее Ледьярд, как сообщил Якоби императрице в письме от 1 февраля 1788 года, был «сей день выслан отсель без всякого причинения ему оскорбления за присмотром в Москву». Из Москвы шпиона депортировали к западным границам империи – через Польшу на Кенигсберг.
Значение Шелихова англосаксы понимали отлично. Так что ориентировать сибирскую агентуру на его ликвидацию мог уже Ледьярд в 1788 году.
К концу XVIII века роль Шелихова в создании и развитии тихоокеанского геополитического и экономического базиса российской державы лишь возросла и упрочилась. В замыслах была мощная Русская Америка, вероятное близкое воцарение Павла подкрепило бы эти проекты. Соответственно актуализировалась потребность устранения Шелихова, которое наиболее просто и надежно можно было организовать именно в Иркутске, где англосаксонские агенты, вне сомнения, имелись.
В русской «американской» истории смерть Шелихова стала первой, но, увы, не последней. Странно скончались отец и сын Лаксманы, с именами которых связаны японские и тихоокеанские планы Екатерины, зять Шелихова Николай Резанов, готовый стать достойным его преемником. Эти события изменили возможные перспективы Русской Америки коренным образом.
Давнюю информацию к размышлению нам пора бы осмыслить с определенными практическими выводами.