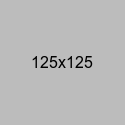Выйди, друг мой, навстречу субботе

Сукка омская
- Рувка, к тебе на праздник Суккот заявятся Абрамович с Полежаевым.
- Сразу два губернатора в одну синагогу? Так не бывает.
- Собери людей на базаре. Ты теперь, как невеста на выданье. А вдруг Абрамович зайдет в синагогу, а там - нет людей? Зачем тогда тебе, Рувка, давать деньги?
Собрать евреев в базарный день - это не грибы собирать в лесу. Разве что, объявить семинар по традициям: как построить шалаш-сукку, сделать кошер из дохлых кур, или там, не приведи Господи, хоронить покойника.
Может, Абрамович и даст.
Листопад каруселил над бревенчатой двухэтажкой, что торчала посреди трамвайного звона, как палец невесты в обручальном кольце. Когда строили синагогу, трамваев еще не было, а когда зэки прокладывали рельсы, синагогу приняли за церковь.
Бабье лето кругом, а тут десять базарных евреев, ну это как десять сибирских котов, голодных и энергичных, бездельников.
- Я из вас сделаю примерных прихожан, возродим синагогу и заживете, как кот в масле, еврей без традиций - борщ без ложки. Три дня для переподготовки. Все расходы берет на себя синагога.
Подслеповатый хромой служка вынес бутыль самогонки и все сделали «лехаим».
Одни строили сукку-шалаш, другие стол сколачивали, ребеце борщ варила и котлеты жарила.
Рувка сбегал в магазин и принес новенькие алюминиевые миски-ложки. А вдруг Абрамович заявится?
- Посуду надо откашеровать, - сказал Яков Шкаф по прозвищу Труба; он пел молитвы горлом, как из-под земли, и наводил ужас на старых грешников, и тогда душа их безмолвно рыдала: Труба зовет!
Чего у Яков не отнять, так это упертость.
- Откашеровать, значит, окунуть в микву.
- Лучше еврей без бороды, чем борода без еврея. У нас миквы не случилось, - развел руками Рувка.
- А эти мисочки и ложечки я только что принес из магазина.
- Ну, Иртыш никуда не делся, надеюсь, - отрезал Яков.
Закат уже в кровавые лучи одел Иртыш, словно древний Нил во время казней египетских.
Яков брюки закатал и босой вошел в холодный Иртыш, аки посуху. И давай окунать-кашеровать миски-ложечки. И когда запел он «Кто сравнится с Тобой, Господи», а голос у него чистый, как гром среди ясного неба - так вот, когда он запел, незаметно выпал паспорт из нагрудного кармана рубахи, и поплыл родимый паспорт в темноте по течению. И долго еще разносился над Иртышем могучий и счастливый голос Якова «Ми камоха ба элим Адонай».
Принес раб божий посуду в синагогу, а она в лучах фонаря расцвела нефтяной радугой, запахла Иртышем того места.
Голодные ковбои офонарели.
- Жалко мисочки, - Рувка обнюхивал их, будто сдохшее домашнее животное.
Яков за сердце схватился, где нагрудный карман, но без паспорта.
И побежали все на поклон к Иртышу с фонариками и без.
Абрамович не явился в этот день.
С утра в ожидании гостей было объявлено родео на курах: поймать и зарезать, но кошерно, то есть безболезненно.
Рувка открыл клетку. Молчок.
- Цыпа-цыпа! Гули-гули!
Курицы стеснялись ковбоев.
Он насыпал под себя пшено.
- Цыпа-цыпа!
А когда самая шустрая вышла и стала клевать, толстяк резко присел над ней. И хвать ее. Да не тут-то было. Одно перо из задницы в руках. А штаны треснули, да так громко! Ковбои захохотали. Тогда Рувка открыла настежь клеть и выпустил весь гарем.
- Петуха не трогать! - закричал он.
И началось смертельное родео. Танец корысти и трусости.
- Петуха не трогать!
Рувка взывала к мужской солидарности.
Перья и опавшие листья летали, а омские курицы в руки - нет. Омские суки.
В этот день паспорт и Абрамович не нашлись.
Последний день, как и положено, «Хевра Кадиша» - братство покойника. Но кто за покойника посреди здоровья? То-то и оно.
Выпили самогонки. Жребий пал на Муню-бабника.
- Не надо думать глупость, - сказал Муня, снимая майку и трусы.
Он лег на стол, изображая покойника, его окатили холодной водой - омыли… Тот еще танец мертвецов.
- Не холодно?- участливо спросил Рувка.
Молчание - еврейское золото.
Служка сбегал за самогонкой. Обложили Муню бутылками. Покойнику из уважения налили первому. Когда все было выпито, Яков обрезал Муню.
- Вот каким красивым покойник стал, - сказал Рувка.
Забинтовали член Муни, еще выпили и пошли, и легли все в Сукку. И посреди спящих базарных семинаристов торчал светлым маятником обрезанный член, как символ непобедимого будущего.
В полдень служка окликнул Рувку.
- Абрамович приехал с нашим губернатором!
В шалаше только храп раздавался.
- Не надо будить моих хасидов, - сказал Абрамович.
Между теснин
О чем плачут таты «между теснин»? Бейн-амецарим - это три особенные недели между 17-м Таммуза и 9-м Ава (июль-август). Все несчастья в одном флаконе. В эти дни таты не устраивают плясок и хороводов, не слушают музыку даже по радио. В эти дни таты тише воды, ниже травы. В эти дни торжествуют злые ангелы. Поэтому учитель не должен бить ученика.
Короче говоря, когда всем плохо, ученикам хорошо.
В Мемориальной синагоге на субботний шахарит молились по очереди два миньяна татов и современников. У татов свои молитвенники, к ним женщины не ходят, а у современников плюрализм на всю голову.
Начальник татского миньяна Пейсах из Дербента (он же из Берлина, он же из отеля «Украина») был старый холостяк и к женщинам особенно суров.
Итак, девять утра субботы. Пять татов ¬- не миньян. С тех пор, как богач Исмаил «махнул на них рукой», татов «на мерсах и вольво», как корова языком слизала. Придется обойтись без главных молитв и чтения Торы, а без них и служба не служба.
Пейсах нервно снял шляпу и очки в золотой оправе, и положил на биму, где мог бы лежать, между прочим, свиток Торы будь миньян. Где таты? Татов нет. Семь бед - один ответ: татов нет.
- Сегодня евреи читают главу «Пинхас» из Торы, - сказал Пейсах.
- Он убил еврея Зимри и красивую язычницу за прелюбодеяния, и за это награжден правом на вечное коэнство.
И вот, только произнес эти слова Пейсах, как распахнулись двери синагоги и ввалилась толпа туристов. Или это таты с гор спустились? Пейсах поманил пальцем шамеша по имени Пурим.
- Узнай незаметно, кто они.
- Они американские евреи, - незаметно прошептал Пурим.
Голос Пейсаха окреп и он продолжил свою драшу, но уже по-раввински растягивая слова, жестикулируя и раскачиваясь телом. Азохен вэй.
- В эти дни евреи плачут между теснин, изо дня в день скорбим об Иерусалимском Храме, читаем молитву Тикун хацот. Но не плачьте о потерянных вещах и не произносите благословение Шегехияну на обновку. Даже новые плоды в это время не едят. Не плачьте об утерянной вещи. Будьте смиренны.
Постепенно голос Пейсаха окреп, из пустой ореховой скорлупы превратился в железную булаву, и давай ее мордовать размякшие головы прихожан.
- Пинхас был против смешанных браков, лесбиянок и гомосятины. Одним ударом копья покончил он с этим в народе Израиля. Сегодня женщины расставили повсюду сети. Смешанные браки против галахи, это грех. А вот американским реформистам хоть кол на голове теши, им Тора - не Тора, им Талмуд - не Талмуд. А мацу грызут, потому что хрустит!
Американцы встали и демонстративно вышли вон. Куда же вы, мешки с деньгами? Таты выбежали следом. Пейсах - за ними.
- Ну, где американцы?!
- Ушли, Пейсах. Ты их обидел.
- Они ж по-русски не говорят! Им что-о, перевели на английский?!
- У них был переводчик, баба с грудью и микрофоном, а эти все были с наушниками.
- Пурим, почему не предупредил?!
- Баба с грудью…
- Одни бабы у тебя на уме.
- Что-о, нельзя? - вдруг вызывающе бросил Пурим.
Это было похоже на бунт.
- А зачем на них смотреть во время службы Всевышнему? Зачем на баб смотреть?!
У Пейсаха на губах пена взошла, как из бутылки шампанского, ему только начни про баб - не остановишь. Весь пеной изойдет. В конце концов, изошел. Всей грудью вздохнул, поправил талит на плечах и вернулся в синагогу. Поднялся на биму. В зале никого и на биме пусто. Пошарил вокруг, туда-сюда пробежался. Нет очков в золотой оправе, и черной фетровой шляпы.
И завопил Пейсах из Дербента (Берлина и отеля «Украина»), как все Иерихонские трубы сразу. Как стены синагоги не развалились?!
- Будьте все прокляты! Очки - триста евро! И шляпа моя где? Где узбек?
Узбек - это долговязый охранник.
- Осел! Как ты смотрел за этими американскими шпионами?! Покажи видео на мониторе!
Вот где, рабойсим, Пейсах из Берлина проявился. Но что это за очки за триста евро? А шляпа? Черная ковбойка. Но таты называли ее шляпой. С горы виднее.
- Это американские реформисты, - подсказал служка Пурим. - Ты видел, как они дружно обиделись и встали?
- А ты, узбек, видел того реформиста, который надел мои очки и шляпу?!
- Да, я видел.
- Ты видел и не схватил его?! С моими очками и шляпой?!
У Пейсаха желтая пена на губах окрасилась в голубое.
- А что моя могла сделать большой Америке?
- У тебя есть пистолет? А дубинка? А что у тебя есть, сволочь! Звони в полицию!
Тем временем, в синагогу гурьбой завалились «современники» - парни, девушки (вторая смена служить Б-гу во главе со своим рав Левой). В другое время Пейсах на них даже не взглянул бы. Но не сейчас.
- Ты у нас старший, ребе. Вызови полицию. У нас большое несчастье.
Вскоре явился молодой человек в безрукавке, но с пистолетом на поясе.
- Он старший, - Пейсах с готовностью указал на очкастого Леву.
- Пройдемте в дежурную, - велел Леве человек с пистолетом.
Они прошли в комнату охраны .
- Смотрите, у нас на Поклонной Горе сегодня много важных мероприятий, у вас свое, у других свое. Везде пьяные, везде драки. Кто чужую шляпу надел, кто чужую жену увел. Чего только по пьяному делу не бывает. Шляпа, очки. Я понимаю. Ну, я вам сейчас принесу бланк заявления. Если вы его напишите, я передам прокурору. А он вас потом порвет.
- Меня за что?
- А вы старший и за все отвечаете. Три года колонии я вам гарантирую.
- Чушь какая-то…
- Может у нас недобор… Напишите заявление, прокурор откроет дело и закроет его вами же. Так вы будете писать заявление о краже?
- У нас сегодня суббота. Я ничего писать не буду.
- Это правильно, - согласился человек с пистолетом.
Лева прошел в молитвенный зал к своим прихожанам и запел молитву великого антисемита «Как прекрасны шатры твои, Яаков!»
Какое-то время служба проходила под аккомпанемент воплей Пейсаха, потом приехал ОМОН в бронежилетах и касках, как будто пропала не шляпа, а бомба. Началась проверка документов. Таты тотчас присоединились к службе «современников», старались не смотреть на женщин.
- Нашли шляпу и очки, - сказал после службы охранник Леве.
- Нашли их у меня в шкафу. Заступитесь за меня.
Между теснин - время, когда жалко.
Жора
Чайки раскричались над Днепром. Рыбаки спускали лодки. Некогда Богом забытое село Камянское превратилось в скрипящий трамвайными рельсами и воняющий дымом Днепродзержинск, где вместо деревьев - заводские трубы; землю закатали в асфальт, а гудки заглушали плач детей.
Здесь народ умирал охотнее, чем на других берегах.
И духовой оркестр похоронных процессий звучал громче радио - бумажной черной тарелки на шляпке гвоздя.
Человек рожден не только для пятилеток, но и умирать.
Вдруг разрывается пространство ударами барабана, звоном литавр, плачем трубы.
Процессия шла через город, по трамвайным линиям, к кладбищу, которое приютил Цементный завод у себя под боком на холме.
Сначала откуда-то издалека, а потом громче-громче. Это как приближающая летняя гроза, пока тебя не окатит ливень.
Смерть и любовь - вот, что волнует человека. Люди бросали дела - парикмахер
выходил с намыленной щеткой, портной с вдетой в иголку ниткой, булочник, мясник - короче, все спешили на улицу, когда покойник важнее правительственного наказа победить капитализм.
Узнать его имя, стать участником похорон, - ух, как здорово!
Власть была бессильна против смерти.
И вдруг однажды перед оркестром явился худой, босоногий парубок с копной рыжих волос, словно он нес костер на голове.
В любую погоду босой, в косоворотке и закатанных по щиколотку брюках, с отчаянно резкими движениями длиннющих костлявых рук он «дирижировал» .
Скучные заводские музыканты, медленный грузовик с откинутыми бортами и гробом нараспашку, неуверенная толпа провожатых… В солнечный полдень или в снежный ливень неизменно впереди, как ангел смерти, отчаянно жестикулировал бывший детдомовец, бездомный Жора.
И горожане, на тротуаре с начала тупо глядели на тягостную неизбежность, а потом вдруг взрывались не то рыданием, не то хохотом. Все было свято в проклятом городе и перемешано - плач и хохот.
Весной 53-го, после похорон директора гастронома № 1, в Днепре нашли утопленным Жору, босоногого, в белой косоворотке и закатанных брюках. С гастрономом шутки смертельны…
Без музыки провожал Жору Днепродзержинск.
Леха доди…
(Выйди, друг мой, навстречу субботе)
На озере Лохнес разбушевался ураган Гонсало и затонула яхта с пьяным медиамагнатом Дворкиным, российским клиентом хромого регбиста и по совместительству адвокатом Фимы.
Фима предпочитал «живые деньги» дорогим похоронам клиентов. На похороны в Эдинбург ехать через Лондон. Фиме повезло.
Дворкин говорил: «Ах, не кошмарьте, Фима, бизнес».
Да, Дворкин сволочь был, но он кипу носил. Между прочим, Фима имел его Зинку. А кто ее не имел? Став президентом московской синагоги, Дворкин поверил: «Евреи кончились». И вот он утонул, русский еврей с украинскими корнями.
В ожидании поезда в Эдинбург, на вокзале Виктория, Фима купил у веселого черного зазывалы билет на туристическую программу по столице. Это был одинокий заплыв на марафонскую дистанцию на «ките», но не в брюхе, как несчастный Йона, а в двухэтажном красном автобусе.
Его соседи по туру; молодая супружеская пара из Германии - недавно эмигрировали. Обоих звали Саша. Он врач-уролог, она аптекарь при больнице.
- Нам надоело скитаться по углам Москвы, откладывая рождение детей, - сказал уролог.
- В Германии нам дали квартиру, - сказала Саша.
- Германия богатая страна, - кивнул супруг ее. - А в России я чужим мальчикам делал брит-милу. В России мы были не размножаемы. А там есть надежда, понимаешь?
- Душ Шарко!
Фима поднял над головой палку.
Заморосил дождь: все, что осталось от урагана Гонсало.
На «спине кита» через Лондон - им сверху видно все.
- Букингемский дворец!
- Национальная галерея!
Но они сошли на барахолке «Харродс», где продавались мировые бренды.
Саша купила красную сумку - цвет английских дверей и юбку цвета сумки, как будто бы быков дразнила. Потом мужчины потеряли Сашу надолго. Она вернулась, как рождественская елка.
Они зашли в паб. К зимовью дичь обросла жиром, на дичь идет охота. Английское пиво, лам в сладком соусе. Двадцать фунтов.
«Большой кит» снова проглотил «заморивших червячка» туристов. И снова людское море Лондона. Проплывали мимо хвойных парков, площадей, памятников…
У музея «Мадам Тюссо» мадам Саша-елка выпихнула мужа, а потом и Фиму с чемоданом из автобуса. Быть им в музее. Очередь за сдачей багажа по-русски в полквартала. Лес теток-елок с барахолки, как на параде мужики с детскими колясками, ну и такие «фимы» с чемоданами, как наш счастливый адвокат.
- Проходим, берем бирки и проходим!
Приемщик в клетчатой кепке вдруг одернул Фиму: «Вус махт аид он кабалат шабат?»
И видит Фима: приемщик дядя Хаим.
- Еще не вечер, дядя. Все нормально.
Дядя Хаим надел Фиме на руку желтую бирку и укатил его чемодан - так в крематории гробы катают.
И ступили Фима и супруги из Германии в ослепительный зал знаменитостей. Хочется похлопать по плечу Черчилля, но не достать! А Гитлеру бесстрашно плюнуть в рожу, но не оштрафовали бы за порчу экспоната. Подмигнуть Путину, сфотографироваться с королевской семьей, обнять за талию Джулию Робертс, присесть с «Битлз» на пригорке, но, увы, без гитары. У Мэрилин Монро - развевающееся белое платье, голливудская улыбка блондинки… И - пропал уролог.
А Саша явно супруга перепутала с Фимой. При каждой новой встрече с идолом она бросалась в объятия Фимы. Терпкий запах жасмина возбуждал его. Уж не поиметь ли ее за спиной одноглазого Шварценеггера?
И незаметно они ступили на скользкую дорожку эскалатора, бегущего вниз, в «Спирител оф Лондон». Саша навалилась грудью на Фиму, а она была в одной майке. И тут он обнаружил, что желтая бирка дяди Хаима к чертям исчезла. Женская грудь и ее голый живот мешали Фиме сосредоточиться на бирке.
- Мне страшно. Вот… Она положила его руку себе на живот.
И не увернуться, и не вернуться назад. Впереди подземные казематы. Лондонские древние страшилки, лязг цепей, охи-вздохи.
Из-за угла вдруг призрак замахнулся на Фиму, а Фима уклонился и нанес хук справа призраку по печени, как учили в армии советской.
-А-а, черт! - завопил не понарошку призрак. - Да когда же они перестанут драться?
Ответный удар Фиме в глаз.
…Уролог переминался у туалета в ожидании Саши и Фимы.
Наверное, она поставила Фиме фонарь под глазом, когда он приставал к жене. Не приставай!
Как только они вышли из музея, так сразу - за вещами.
Но не тут-то было. Очередь до конца субботы. А Дворкин ждать не может! Но кому до бывшего медиамагната и президента московской синагоги дело?
Такие дела.
- Человек потерял бирку!
- Пропустите, сэр. Грудной ребенок хочет в детскую коляску.
- Где я забыл моего бэби?
- Человек потерял бирку!
- Это плохо, - сказал Хаим. - Вы помните свой чемодан? Забудьте. Я закрываюсь. Темнеет рано. Шабэс.
- У меня поезд в Эдинбург. Президент синагоги умер.
- Я вас вспомнил. Ну, хорошо, возьму вас с собой в синагогу, и скажем поминальный каддиш по твоему другу.
- У меня поезд. В Лондоне пробки.
- Поедем на велосипедах, мой мальчик! Встретим субботу, прочтем каддиш…
-Эй, слушайте! Кто оставил ребенка на руках Джулии Робертс?
- Я!
- Вы говорили, что под юбкой Мэрилин Монро.
- Монро, Робертс…
- Да вы бабник, сэр. Ваш мальчик ее всю описал.
- Я бирку потерял, но чемодан я свой запомнил, - бормотал Фима.
- Когда все разберут, возьмете что осталось, - сказал дядя Хаим.- И мы поедем на велосипедах в синагогу. Споем «Леха доди…». А что у вас под глазом?
- Врезал вашему бандиту. Он выскочил из-за угла «спирит оф Лондон».
- Так это ты послал Пиню в нокаут? Поздравляю. Нам вместе ехать в синагогу. Заплатишь за страховку тысячу фунтов.
- Да что же это одно несчастье за другим! Дворкин сволочь!
И Фима грохнулся в обморок. И сразу ему стало хорошо.
…Во голове велоколонны дядя Хаим с накладной бородой и пейсами, Фима с чемоданом, Пиня… А дальше на великах Чарли Чаплин, Джулия Робертс, Бред Пит, Мэрилин Монро - короче, все герои «Мадам Тюссо» сбежали с горки к синагоге сквозь пятничный трафик… Мокрый ветер… А когда сверкнули красные лучи заката, чемодан Фимы вдруг раскрылся и вылетевшая белая рубашка облепила лицо Пини, и он страшно матерился… А Фима и дядя Хаим, и Чарли Чаплин бегали между автомобилями и собирали вещи из чемодана… И все-таки они успели к зажиганию Дворкиным субботних свечей… Он во всем белом…
Дядя Хаим, наконец, отыскал шприц, закатал рукав рубашки Фиме и тут все увидели злосчастную желтую бирку - за локоть закатилась.
Иосиф
В конце декабря мороз и снег обновили Белокаменную. И вот в этой предновогодней суете в Гипрорыбпроме директор Гринько по науськиванию министра Ишкова захватил на утренней планерке главспецов в заложники.
- Города - миллионники жрать хотят, а Ишков рыбу дать не может - нет холодильников. К Новому году сдать Свердловск. Яйца поотрываю!
Ну, восьмидесятилетний алкаш Бондаренко забыл, зачем они ему, а все же жалко. Он вернулся в отдел и тихо и незаметно заглядывал за спины проектировщиков.
На чертеже железо бетонных конструкций молодой курчавый очкарик Иосиф писал:
«Я сразу смазал карту блудня,
Плеснувши из клавиатуры будней…"
Ничего себе! Это в рабочее время, на казенной бумаге. Почерк ни к черту, в расчетах ошибки. Все за ним нужно переделывать. Города - миллионники жрать хотят, а этот рифмоплет…
- Ну-ка, зайди ко мне.
И уже в конуре своей, держа на отлете папиросу с мундштуком, Бондаренко театрально обернулся к партсекретарю Кузе.
- Вот, полюбуйся.
- Алексей Михалыч, - заикнулся было Иосиф.
- А на кой черт мне такой инженер?!
- Он нам водку носит, - подсказал Кузя.
- Ну, разве что, - вдруг вспомнил Бондаренко.
- Да, пошли его подальше.
Кузя потер потертый красный нос.
- Гринько, Ишкова или этого?- удивился Бондаренко.
Тут уж Кузя удивился.
- Ну, дальше Курил куда? Послал я его увеличить остров Тюлений, так он баржу утопил.
- Зато остров увеличил, - сказал Иосиф.
- Рот закрой. В Свердловск полетишь. Через три дня, кровь из носа, сдать Госкомиссии
холодильник.
Бондаренко пустил кольца дыма в лицо очкарику.
- Ишков прилетит.
- Сам первый секретарь обкома Борис Ельцин будет, - зажмурился Кузя.
- Понял?!
Глаза Бондаренко налились кровью
В командировочном удостоверении написал: «Без сдачи не возвращайся».
День отлета, день прилета - один день. Заказчик Абрам Погребинский на кладбище свозил, с женой познакомил, угощал в ресторане «Океан» котлетой по- матроски (севрюга в кляре), пьянка-парилка на Уралмашзаводе (только без мата, Ельцин не любит); упростил заодно армирование атомного бомбоубежища (все равно войны не будет).
И отвезли Иосифа пьяного на окраину Свердловска в зону (колючая проволока, овчарки) и сдали охранникам и зэкам. А посреди зоны, как египетская пирамида, возвышался Холодильник. Но Иосиф пьяный его не заметил.
- Здесь и будешь жить, - сказал Погребинский, брат его в каком-то смысле.
- Я тебе буду привозить еду.
Дали телогрейку и валенки - чистый зэк. Утопал в снег в тридцатиградусный мороз.
Иосиф то в аммиачный цех (холод вырабатывался и шел по трубам), то в холодильник
(герметичные ворота не пропускал холод, а батареи - теплые, как в бане).
- Где-то трубы забиты, вот и не дают батарее холод, - стонал Погребинский.
- Надо простучать трубы, - сказал Иосиф.
- Ну, стучи, очкарик, - усмехнулся зэк. - Трубы под снегом.
- Через три дня комиссия, - хрустел пальцами, тер затылок Абрам Погребинский, в каком-то смысле брат Иосифа.
Трубы под снегом, а нары наверху. Лег ночью на нары Иосиф и приснился ему сон: входят в простынях Ишков, Ельцин, Погребинский брат, Валька-потаскуха (куда же без нее), Иосиф, в предбанник пирамиды египетской с хекконторой внутри; а на полу мумия в белых лохмотьях… Как в снегу…
- Ну, Иосиф, разливай портвейн.
А холодец у Вальки растаял.
- Как закусывать? - возмутился Ельцин. - Хде, понимаешь, наш Холодильник?! У меня в Свердловске вон сколько мороза, на всю Европу хватит, а для моего холодца - нет.
И вдруг в барак врываются холод и лай собачий.
- По-о-дъем!
Телогрейка, валенки - и бегом к холодильнику.
- Открывайте настежь ворота, - просветленно сказал Иосиф. - Три дня заморозят холодильник к чертовой матери вместе с валькиным холодцом.
За эти три дня мороз свое дело сделал. Что снаружи, что внутри - минус тридцать. Госкомиссия приняла холодильник на ура. Холодец понравился Ельцину.
Весной вольнонаемные Погребинского нашли все пробки зэковские и пошел аммиак в батареи холодильных камер, обрастая белоснежными шубами.
С тех пор холодильники всегда готовил Иосиф, и только под Новый год.