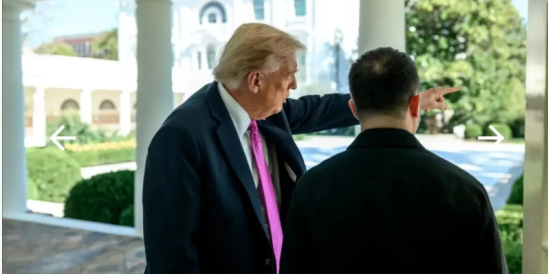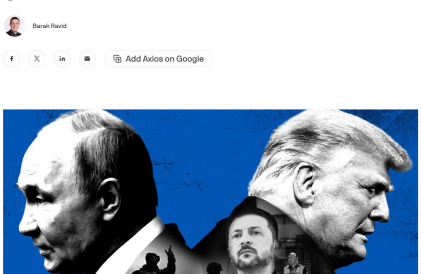Не буди лихо покуда спит тихо
Статья К. Сивкова под названием «Ядерный спецназ» вызвала огромный интерес у читателей: счетчик сайта показывает 87,5 тысячи просмотров, статья почти в полном объеме была перепечатана в крупнейшей российской газете «Комсомольская правда» и 1 апреля (это не шутка) удостоилась обсуждения во вполне респектабельной британской Daily Mail. Интерес не случаен – статья того заслуживает.
Во первых строках г-н Сивков постулирует следующий тезис: «Соперничать в военно-технической сфере с НАТО и его союзниками Россия просто не в состоянии». Нормального советского человека такой вывод повергает в глубокий ступор – как же так, десятилетия упорного труда, встречный план, соцсоревнование, догнать и перегнать… Не унывает только автор: да, догнать мы уже не в состоянии, но кирпичом-то в спину шандарахнуть еще можем!
«Территория СССР могла быть превращена в радиоактивную пустыню…»
Далее следует каскад плодотворных дебютных идей, одна другой краше: «Достаточно относительно небольшого толчка, например удара боеприпаса мегатонного класса, чтобы инициировать извержение Йеллоустонского вулкана. Последствия будут катастрофичными для США – такое государство просто исчезнет… Другой вариант мегаудара – инициирование гигантских цунами... Высота волны достигнет более полутора километров, а зона разрушений превысит 1500 километров от берега… Обратная волна смоет Европу, то есть весь блок НАТО…» Один из подзаголовков статьи звучит так: «Апокалипсис – просто и недорого».
“ В научных журналах США открыто публиковались такие данные, которые в СССР вписывали от руки в документах на номерных бланках с устрашающими грифами «Сов. секретно. Особой важности. Экз. единственный» ”И сама статья г-на Сивкова, и факт ее публикации в серьезном издании ставят перед читателем множество вопросов морального, политического, военного, философского и медицинского характера. Не будучи специалистом ни в одной из перечисленных областей, я ограничусь лишь перечислением некоторых – малоизвестных или, напротив, преждевременно забытых – событий и фактов. Небольшая такая шпаргалка по истории Великой Ядерной Гонки.
Общеизвестная (среди тех, кому хоть что-то известно) версия события такова: американцы создали ядерное оружие первыми, но в 1949 году Советский Союз испытал свою атомную бомбу (самые эрудированные добавят – скопированную один в один с американской), разрушив тем самым монополию на обладание сверхоружием, а затем и вовсе обогнал противника, первым создав термо-ядерную («водородную») бомбу.
Мнение специалистов радикально отличается от этой радужной картинки: «В 1953 году ядерный потенциал США насчитывал 1169 боезарядов с совокупным мегатоннажем 73 Мт и по существу не мог определять исход возможного крупномасштабного столкновения между СССР и США. Однако в 1957 году США уже обладали ядерным потенциалом в 5543 боезаряда с совокупным мегатоннажем 17 500 Мт. Практически это означало, что территория СССР могла быть превращена в радиоактивную пустыню. Ядерный арсенал СССР в это время был на несколько порядков (то есть в сотни раз. – М.С.) меньше и не представлял реального оружия устрашения для США как по своему объему, так и по возможностям средств доставки».
Весь дальнейший текст – не более чем ограниченный рамками газетной статьи комментарий к процитированному выше компетентному мнению специалистов ВНИИЭФа (он же Российский федеральный ядерный центр, он же «Арзамас-16», он же КБ-11, то есть главный разработчик ядерного оружия СССР).
Число имеет значение
Для начала внесем одно короткое, но важное уточнение – атомной бомбы в 1949 году у Советского Союза не было. Слово «бомба» в русском языке всегда означало что-то подвижное, летающее по воздуху, однако 29 августа 1949-го на Семипалатинском полигоне был взорван стационарный ядерный заряд, а первая в СССР атомная бомба (не заряд на вышке, а падающий из бомболюка самолета предмет) была испытана лишь 18 октября 1951 года, то есть через 2 года и 50 дней после первого ядерного взрыва. Вариант «а мы и не хотели испытывать натурную бомбу, нам вышки хватило» отбрасываем сразу, без дискуссии. Еще как хотели, всегда хотели и правильно хотели! И первая термоядерная «слойка» РДС-6с, и первая полноценная двухстадийная РДС-37, и знаменитая «Царь-бомба» чудовищной мощности 50 мегатонн испытывались не на вышке, а именно в процессе сброса реального боеприпаса со штатного самолета-носителя.

Коллаж Андрея Седых
Второе, гораздо более значимое замечание относится к тому, что «ликвидация монополии на ядерное оружие» в принципе не могла произойти одномоментно, по щелчку, в триггерном режиме: вчера была, сегодня закончилась. Единичное испытание единственного взрывного устройства если и переводит страну в ранг «ядерной державы», то лишь в политико-пропагандистском смысле, ибо недостаточную для решения стратегических задач мощность первых атомных бомб можно было возместить только большим их количеством, что в свою очередь требовало развертывания крупномасштабного производства делящихся материалов (плутония-239 и урана-235). Американцы на основании собственного тяжелого практического опыта знали, чего это стоит, так что именно их напугать испытанием единичного изделия было труднее всего.
А с серийным производством ядерных зарядов в СССР возникли большие (и неизбежные, принимая во внимание колоссальную сложность задачи) проблемы. Заведомо нереальное плановое задание – довести к концу 1947 года наработку делящихся материалов до 200 граммов в сутки – было ожидаемо сорвано. Технологический реактор («завод № 817») был запущен летом 1948 года, за первые полгода произошло 42 (!) аварийные остановки, после чего в январе 1949-го реактор вывели на капитальный ремонт. Столь же тяжело налаживалась работа радиохимического завода («Челябинск-40»), где из облученных, то есть смертельно опасных для персонала реакторных блоков надо было «вытянуть» драгоценный плутоний и довести его до спектральной чистоты.
Первые граммы оружейного плутония удалось получить в марте 1949-го, и всего наработанного за год материала хватило лишь на три «изделия» (включая взорванный 29 августа заряд). С разделением изотопов урана все было еще хуже: центрифугирование в промышленных масштабах казалось невозможным, газодиффузионный комплекс («завод № 813») упорно не желал выйти за уровень 75 процентов обогащения, установка электромагнитного разделения (колечко высотой 21 метр и весом три тысячи тонн) в начале 1950-го находилась в стадии монтажа. Судя по хронологии испытаний ядерных устройств, уран оружейного уровня обогащения удалось получить лишь во второй половине 1951 года. Конечный результат: три «изделия» изготовлено в 1949-м, девять – в 1950-м, двадцать шесть – в 1951-м; план производства предполагал выпуск 40 атомных бомб в 1952-м и 50 единиц – в 1953-м.
А в это время американцы уже «клепали» бомбы сотнями. На тот момент, когда в СССР взорвали первое ядерное устройство, в США было изготовлено 120 авиабомб Mk-3 (модернизированный для серийного производства 20-килотонный «Толстяк»). Затем с 1949 по 1953 год добавили еще 550 единиц сходных по ТТХ бомб Mk-4. В июне 1951-го началось серийное производство Mk-6; при тех же габаритах и меньшем весе (3800 вместо 4700 кг) эта бомба могла иметь энерговыход в диапазоне от 8 до 80 килотонн, за четыре года было выпущено 1100 единиц (и это не опечатка).
В июле 1952 года в серию с темпом производства порядка 190 штук в год была запущена Mk-7, которая при тротиловом эквиваленте 60 килотонн весила всего 765 килограммов; появление «семерки» означало радикальный переход количества в качество – теперь для нанесения ядерного удара по СССР могли быть использованы многие сотни реактивных истребителей-бомбардировщиков, базировавшихся на аэродромах Западной Европы, Турции и Ирана, способных подойти к цели «ниже радара».
Да, знающие дело специалисты утверждают, что накопленные к 1953 году 1169 боезарядов килотонного класса «не могли определять исход возможного крупномасштабного столкновения между СССР и США». Трудно (да и не нужно) спорить с экспертами, но что же в данном случае они имели в виду под «исходом столкновения»? Сплошное выжигание местности от Баренцева до Черного моря? Даже с учетом возможного «брака» (промах, технический отказ, перехват самолета-носителя средствами ПВО) американцы могли сбросить на каждый мало-мальски значимый советский завод пару-тройку атомных бомб. Сотни атомных взрывов – это полное разрушение всей промышленной, транспортной и энергетической инфраструктуры СССР, после чего уцелевшим жителям предстояло пахать зараженную землю деревянной сохой. Той самой («Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой»).
Рукотворное солнце
История создания термоядерного оружия завораживает своим скрытым драматизмом, неожиданными поворотами судьбы, ошибками и озарениями. Она гораздо сложнее примитивной схемы «пока американцы возились с неподъемными монстрами, в СССР была сделана нормальная транспортабельная бомба…»
 Коллаж Андрея Седых
Коллаж Андрея СедыхУже на самом раннем этапе практического развития ядерной физики (в 1942–1945 годах) американским ученым стала понятна общая идея: огромное, сконцентрированное в малом объеме и очень быстрое энерговыделение атомного взрыва способно разогреть «тяжелый водород» (дейтерий и/или тритий) до звездных температур в миллионы градусов, что приведет к еще более мощной взрывной реакции слияния (fusion) атомов водорода и превращению его в гелий (реакция синтеза или термоядерная реакция).
Дело оставалось за малым – надо было найти физический механизм переноса энергии от «атомного запала» к термоядерному «горючему» и сконструировать материальное устройство, реализующее этот процесс. Суть проблемы, на первый взгляд практически неразрешимой, заключается в том, что любое устройство, в состав которого входит взрывающаяся атомная бомба, способно просуществовать не более одной миллионной доли секунды – в следующую микросекунду все это превратится в ослепительный шар раскаленной (десятки тысяч градусов) плазмы, расширяющейся с начальной скоростью сотни километров в секунду.
В период с 1944 по 1947 год работавшие в США физики (К. Фукс, Д. фон Нейман, Э. Теллер, С. Улам) сформулировали несколько идей, которые проложили дорогу к созданию первого и всех последующих образцов термоядерного оружия. То, что Клаус Фукс долго и плодотворно сотрудничал с советской разведкой, есть общепризнанный факт. И он не был одинок в своем занятии, просто доступная публике история разведки пишется таким образом, что известными становятся лишь имена провалившихся агентов. Опять же необходимо уточнить само содержание термина «атомный шпионаж». После Хиросимы «полезные идиоты» неистово требовали рассекретить ядерные разработки, сделать их «достоянием всего человечества» и немало преуспели в этом, открыто публикуя в научных журналах такие данные, которые в СССР вписывали от руки в документах на номерных бланках с устрашающими грифами «Сов. секретно. Особой важности. Экз. единственный».
Поэтому не будем тратить время и силы на выяснение вопроса – кто что придумал сам, а что подсмотрел за океаном. Уже хотя бы потому, что подсмотреть и понять (!) теорию радиационной имплозии мог тогда только гений равного масштаба дарования. Перейдем прямиком к практике – кто что сделал?
«Слойка» и «лидочка»
Две центральные идеи, сделавшие возможным создание первой советской термо-ядерной бомбы РДС-6с, были сформулированы американцами в 1944–1947, а советскими учеными – в 1948–1949 годах. Первая идея – ионизационное сжатие термоядерного горючего нейтронным потоком первичного атомного взрыва. Суть идеи – если невозможно предотвратить почти мгновенное испарение изделия, то надо это испарение использовать. Вещества с малым и большим атомным весом расширяются при ионизационном испарении по-разному: тяжелые – больше, легкие – меньше. Соответственно если окружить атомный заряд многослойным шаром из чередующихся слоев самого легкого элемента (водород) и одного из самых тяжелых (уран-238), то в нейтронном потоке атомного взрыва вскипающий уран с неземной силой сожмет водород и тем самым запустит термоядерную реакцию, а потом и сам взорвется в потоке быстрых нейтронов. Такая конструкция получила в СССР название «слойка».
Водород, в том числе и его тяжелые изотопы (дейтерий и тритий) – это газ. Работать с газом крайне неудобно: занимает много места, улетучивается, воспламеняется. Нужно твердое термоядерное топливо. В этом качестве было предложено химическое соединение – дейтерид лития (LiD) и не простого лития, а одного из его изотопов (литий-6). У нас он получил неофициальное название «лидочка». Чуть позднее выяснилось, что «лидочка» сказочно хороша: под воздействием нейтронного потока литий-6 сам превращается в чрезвычайно эффективное термоядерное горючее – тритий.
Все это американцы знали (причем узнали примерно на год раньше Сахарова с Гинзбургом), но делать «слойку» не стали. Ошибка? Как сказать. От термоядерной реакции они хотели получить сверхмощный заряд мегатонного класса. На меньшее американцы не были согласны и не от гордыни, а потому, что «простая» атомная бомба с энерговыделением 500 килотонн у них уже готовилась к серийному производству и промышленность, опережающая советскую на порядок, способна была обеспечить эту программу оружейным плутонием в потребном количестве. Сделать же «слойку» большого мегатонного класса в принципе можно, но для обжатия крупного шара потребуется более 40–50 тонн обычного ВВ, что делает изделие заведомо нетранспортабельным.
Не отвлекаясь на промежуточный вариант («слойку»), американцы устремились к реализации завораживающей идеи радиационной (рентгеновской) имплозии («третья идея», как назвал ее А. Сахаров). Принцип радиационной имплозии потрясает воображение сочетанием гениальной простоты с феерической сложностью математического расчета и практической реализации.
Первый шаг – осознание той «очевидной» истины, что время разрушения конструкции (порядка 1 мкс) чрезвычайно велико, оно в сотни раз больше времени, которое нужно рентгеновскому излучению для того, чтобы заполнить внутренний объем бомбы реальных размеров. Второй шаг – во внутреннем объеме бомбы, рядом с атомным зарядом, взрыв которого выполняет роль источника рентгеновского излучения, размещается осесимметричный (шар или цилиндр) контейнер с термоядерным горючим. И наконец, третий шаг – контейнер покрываем веществом, интенсивно поглощающим рентген, под воздействием короткого мощного импульса излучения это хитрое вещество мгновенно испаряется, и реактивная сила газовых струй сжимает термоядерное горючее до звездных давлений и температур. Все очень просто.
1 ноября 1952 года ЭТО бабахнуло. Грибовидное облако поднялось на высоту 37 километров, на земле в эпицентре взрыва образовался кратер диаметром два километра и глубиной 50 метров. 10 мегатонн – это серьезно. Американцы так спешили, что в качестве термоядерного горючего использовали первое, что оказалось под рукой – газ дейтерий, охлажденный до температур, близких к абсолютному нулю, и превратившийся при этом в жидкость. Использование криогенного топлива предопределило огромные габариты и вес (порядка 74 тонн) устройства, разумеется, назвать его бомбой никак нельзя.
В Советском Союзе пошли другим путем. И не потому, что осознанно предпочли «синицу в руке», а потому, что про «журавля» (радиационную имплозию) на тот момент еще ничего не знали. Колоссальная по сложности работа (уж на этот-то раз все пришлось придумывать самим, без Фукса) заняла порядка четырех лет и завершилась 12 августа 1953 года. Первая советская «слойка» – термоядерная бомба РДС-6с была сброшена над Семипалатинским полигоном с реального самолета-носителя и выдала при взрыве порядка 400 килотонн тротилового эквивалента.
Таким образом, под звон курантов, обозначивших приход нового 1954 года, ситуация сложилась следующая. У американцев было заведомо нетранспортабельное сооружение, а также передовая идея, проверенная в реальном эксперименте, и ясное понимание того, что надо делать дальше: заменить криогенное термоядерное топливо твердой «лидочкой». У нас была совершенно реальная, хоть сейчас запускай в серию, бомба, было умение делать «лидочку» в промышленном масштабе и полная непонятка с тем, как создать боеприпас мегатонного класса.
Дальнейшие события развивались вполне предсказуемо. 1 марта 1954 года американцы взорвали устройство, основанное на принципе радиационной имплозии, в котором в качестве термоядерного горючего использовался твердый дейтерид лития, что позволило сократить вес до 10,5 тонны. Энергия взрыва многократно превзошла ожидания и составила 15 мегатонн тротилового эквивалента. После чего мощнейшая американская промышленность лязгнула, клацнула, загудела – и с июля 1954 по ноябрь 1955-го было выпущено 305 термоядерных бомб Mk-17 и Mk-24 на 10–15 мегатонн каждая. Три сотни бомб большого мегатонного класса в очередной раз перевели количество в качество – теперь можно было даже не прицеливаться, а просто высыпать их квадратно-гнездовым методом и европейская часть СССР гарантированно превращалась в радиоактивную пустыню.
Наш ответ – первая советская термоядерная бомба, использующая принцип радиационной имплозии, – прозвучал 22 ноября 1955 года, то есть в тот момент, когда американцы ЗАВЕРШИЛИ программу выпуска Mk-17. Термоядерная бомба РДС-37 расчетной мощностью три мегатонны (на первом испытании заряд преднамеренно «недозаправили» и мощность взрыва составила «всего» 1,6 Мт) была спроектирована и изготовлена в фантастически короткий срок – менее чем за два года. Разумеется, такой темп стал возможен благодаря научному и технологическому заделу, сформированному успешной разработкой «слойки».
Геометрия политической географии
Итак, к середине 50-х годов СССР и США, двигаясь разными путями и с разной скоростью, вышли в ту точку, откуда стремительное наращивание числа и мощности ядерных боеприпасов стало всего лишь делом времени, причем весьма короткого. Информация по производству ядерного оружия СССР закрыта, но о масштабах можно косвенно судить по вполне официальным данным о ядерных испытаниях: с 1949 по 1955 год включительно было произведено 24 взрыва, а за один 1958-й – 34, в 1961-м – 59 взрывов.
Теперь-то ядерной монополии США настал конец? Отнюдь. Ядерное взрывное устройство – это наконечник стрелы, вещь, конечно, нужная, но без древка и лука лишенная практического смысла. Для атомной бомбы требуются адекватные средства доставки, только они превращают большое пиротехническое шоу в реальное оружие. И вот в этом вопросе симметрия сложности задач решительно пропадает – вопреки всем правилам геометрии расстояние от США до СССР оказалось гораздо меньше расстояния от СССР до США.
Американские самолеты могли использовать авиабазы в Западной Европе и Центральной Азии, откуда до Москвы, Куйбышева и Челябинска было рукой подать (две-три тысячи километров), советским же бомбардировщикам даже по кратчайшему пути через Северный полюс предстояло пролететь шесть тысяч километров от кромки берега Ледовитого океана до первой точки на канадо-американской границе. И еще накинем 1–1,5 тысячи километров полета до цели над территорией США. И увеличим полученную цифру вдвое – экипажи летчиков-смертников в советской авиации никогда не формировались, и самолет хотя бы теоретически должен был иметь возможность вернуться назад. Итого: нужен бомбардировщик, способный взлететь с боевой нагрузкой пять тонн и пролететь не менее 14–15 тысяч километров. Создать такой самолет не сложно, а очень сложно.
Напомню, что в 1945 году самый тяжелый советский бомбардировщик Пе-8 (он же ТБ-7) имел взлетный вес 35 тонн и с бомбовой нагрузкой две тонны мог преодолеть расстояние 3,6 тысячи километров при крейсерской скорости 270 километров в час. Эти цифры позволяют нам оценить тот феноменальный рывок, который совершила советская авиапромышленность, поднявшая в воздух 12 ноября 1952 года опытный образец стратегического бомбардировщика Ту-95. Взлетный вес – 170 тонн, максимальная бомбовая нагрузка – 12 тонн, дальность с нагрузкой пять тонн – порядка 12–13 тысяч километров при крейсерской скорости 750 километров в час.
Разумеется, и здесь не обошлось без «широкого международного сотрудничества». Пламенное сердце нового самолета – четыре мощнейших (12 тысяч лошадиных сил каждый) турбовинтовых двигателя – было спроектировано немецкими инженерами, которых вместе с чертежами и оборудованием вывезли в Куйбышев из поверженной Германии. Сложные системы стратосферного бомбардировщика (гермокабины, дистанционные турели вооружения, прицельно-навигационное и радиооборудование) появились в результате творческого копирования аналогичных систем американского В-29. Вне всякого сомнения, без опыта копирования, а затем и серийного производства американской «суперкрепости», получившей у нас скромное имя Ту-4, создание Ту-95 да еще и в столь сжатые сроки было бы совершенно невозможным.
В 1956 году самолет был принят на вооружение, и до конца 1958-го Куйбышевский авиазавод № 18 (крупнейшее предприятие отрасли, выпустившее в годы войны 36 тысяч штурмовиков Ил-2/10) передал в части дальней авиации 50 бомбардировщиков Ту-95 и Ту-95М. Уж теперь-то с американской монополией было покончено? Да как сказать…
В том самом 1952 году, когда первый прототип Ту-95 поднялся в свой первый полет, в США началось серийное производство зенитного ракетного комплекса «Найк-Аякс». К концу 1958-го, когда в советских ВВС насчитывалось аж полсотни Ту-95, в системе американской ПВО было развернуто 200 батарей «Аяксов» по четыре – шесть пусковых установок в каждой, сами же ракеты были произведены в количестве 13 714 единиц. Досягаемость по высоте – 21,3 километра (потолок Ту-95 не превышал 12 км), скорость – 2,3 Маха, трехсекционная осколочно-фугасная БЧ общим весом 142 килограмма (у ставшего нынче весьма знаменитым «Бука» – 70 кг), радиолокационная, то есть всепогодная и круглосуточная система наведения.
К сказанному надо еще добавить создание в сентябре 1957 года объединенного командования ПВО Канады и США (NORAD). Практически это означало, что советскому бомбардировщику предстояло провести порядка двух с половиной часов в радиолокационном поле радаров, установленных на территории Канады, прежде чем он пересечет воздушную границу США. Все это оставляло немного шансов на прорыв Ту-95 к цели… И тем не менее еще никому и никогда не удавалось создать систему ПВО со стопроцентной вероятностью перехвата самолетов противника. Так что появление Ту-95 в небе, при любых оговорках, означало появление первой трещины в стене неуязвимости Соединенных Штатов.
Трещина превратилась в зияющую дыру после того, как в 1960 году на вооружение были приняты межконтинентальные баллистические ракеты 8К-71 (знаменитая королевская «семерка») и ее модификация – 8К-74. Дальность полета головной части последней составляла девять тысяч километров, а так как боеголовке возвращаться назад совершенно незачем, то этой дальности хватало для нанесения удара практически по любой точке на территории США. Перехват головной части МБР средствами ПВО того времени исключался. Всем была хороша «семерка», кроме одного – использовать ее в качестве оружия было практически невозможно: гигантское сооружение (стартовый вес – 270 тонн) заправлялось жидким кислородом, время подготовки к пуску составляло семь часов, стартовая позиция имела площадь средних размеров космодрома (она и превратилась в дальнейшем в то, что сегодня называется космодромом Плесецк).
Произведенная в штучном количестве 8К-74 номинально простояла на вооружении до 1968 года, но первой массовой МБР стала янгелевская 8К-64 (она же Р-16). Драматическая история разработки этой ракеты (при подготовке к первому запуску произошел взрыв, унесший жизни 78 человек, включая главкома РВСН маршала Неделина) завершилась постановкой первых комплексов на боевое дежурство в феврале 1963 года. Ракета с полностью автономной (то есть абсолютно помехоустойчивой) системой управления заправлялась долгохранимыми компонентами топлива и имела время подготовки к пуску порядка 30 минут. Это было реальное оружие, и ему суждено было подвести окончательную черту под историей великой гонки – теперь обе страны (и СССР, и США) в случае ядерного конфликта ждало гарантированное тотальное уничтожение.
***
Подведем итоги. Ликвидация ядерной монополии США – не одномоментное событие, а процесс, занявший без малого 18 лет (с 1945 по 1963-й), при этом до середины 50-х годов американское превосходство было абсолютным. Внимание, вопрос: как бы повел себя тов. Сталин, если бы в его руках 10 лет подряд было уникальное, напрочь отсутствующее у противника супероружие? Сколько союзных республик насчитывала бы при таком раскладе братская семья советских народов? Сколько ядерных пустынь появилось бы на Земле?
Увы, «бодливой корове Бог рогов не дал». И вот теперь, полвека спустя г-н Сивков призывает бросить вызов судьбе, сотрясая континенты мегаизвержениями и насылая на ненавистных «пиндосов» мегацунами. Да, противник уже давно не тот – толерантность, мультикультурализм, перестройка и перезагрузка. И арсеналы уже совсем не те, что раньше, – всего-то 1550 боеголовок по последнему варианту Договора о СНВ. И боеголовки хилые – самые массовые те, что на подводных лодках «Трайдент», по 475 или даже по 100 килотонн.
Однако и этого с большим запасом хватит для того, чтобы превратить в радиоактивный пепел и фейковую Академию геополитических проблем, и ее президента, и всех тех, у кого злобный бред г-на Сивкова вызвал щенячий восторг.
Источник: http://vpk-news.ru